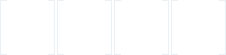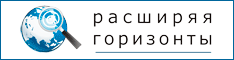Мой небольшой рассказ об одной замечательной женщине, Анне Петровне Плесовских, которую я знаю с 1965 года. С той самой поры, когда после Усманского сельхозтехникума, что в Воронежской области, приехала по направлению в совхоз «Черноковский». И меня в качестве агронома закрепили за вторым отделением (фермой), куда входили три зареченские деревни – Большая Плесовская, Захарова и Малая Плесовская, называемая в обиходе Хутор. Поначалу квартировала на центральной усадьбе и к своему месту работы попадала в летнее время – через речку – на лодке или плотике-перетяге. Но вскоре, выйдя в Б. Плесовской замуж, поселилась там постоянно.
Жили мы на частной квартире. Я училась хозяйствовать. Помню, сколько возилась с огуречной грядой, получавшейся вкривь и вкось, ведь у нас под Воронежем огурцы садили в землю. И вот Анна Петровна, увидав, как я маюсь с этим самым навозом, показала, как брать пласты, как выкладывать гряду, чтобы та выходила ровненькой. И во многом другом была первой моей советчицей.
Потом наша семья переехала в Чёрное. Я из совхоза перешла в ПМК «Мелиоводстрой», где и трудилась до пенсии. Но зареченский свой этап продолжала считать заглавным, а всех женщин, с кем там работала, - как большую родню. К сожалению, многих из них уже нет в живых. Согнули годы и Анну Петровну, всё-таки возраст уже не мал, 86 лет. После перенесенного инсульта вынуждена была покинуть свой Хутор и поселиться в Чёрном у дочери Александры Овсянниковой. Наши дома стоят неподалеку друг от друга, мы общаемся по-соседски.
Старые люди – это кладезь истории. Я люблю Петровну поспрашивать про её молодое время, про её биографию. Грамота у моей героини не велика, а вот школа жизни большая. Ведь тогда, на склоне 30-х, на которые пришлось ее отрочество, мало кто из деревенских ребят шел из начальной школы дальше. Жили семьи довольно скудно. Научился держать те же грабли, литовку, серп и айда работать в колхоз, зарабатывать себе кусок хлеба. Так и с Нюрой произошло. Начала она свою трудовую стезю в двенадцать лет в колхозе им. Ворошилова, где работали мать с отцом, два старших брата и сестры. Подгребала валки на мётке, скот колхозный пасла, картошку колхозную полола. То есть делала, что по силам.
А вот когда грянула война и главных колхозных работников призвали на фронт, а в деревне остались солдатки, старики, старушки, подростки да молодые девчонки, вот тогда уж скидок не делалось ни на возраст, ни на «хлипкость».
В 1941-м, в 15 лет, Нюра весь сенокос наравне со своей мамой «отмахивала» литовкой по 40 соток.
А в 42-м весной даже встала за плуг.
В газете «Колхозник», что вывешивалась в правлении, постоянно давались сводки о весенне-полевых работах и фамилии передовиков. Ей до сих пор помнится, как хвалили какого-то комсомольца Байдашина, отличного пахаря. Его сменные показатели выходили больше гектара. А она с удивлением думала: как хоть это возможно? Потому что сама еле-еле справлялась с нормой 80 соток. Да и кони порой, устав, не тянули, ложились в борозду. И когда, наконец, ей нашёлся какой-то сменщик, а саму Нюру перевели на боронование, дав для этого другую тягловую силу – колхозную корову, она рада была безмерно.
Из семьи Плесовских в 41-м ушел на фронт старший брат, Михаил. За ним через год – Егор. А отец был в трудармии.
Жили трудно и голодно, хотя держали корову и ещё кой-какую живность, всё шло в обязательные поставки, в налоги. Молока надо было сдать 400 литров, 100 яиц, 40 кг мяса, полторы овчины с овцы (во что трудно нынче поверить). Но самыми неподъемными были денежные налоги, ведь в колхозе денег не видели. И несли на базар колхозники то «кружок» молока зимой, замороженного, как лёд, то картофельные катышки, то стакан - другой табака-самосада, что в войну «ходил» как валюта. Но, садясь за письма братьям, Нюра старалась сообщать им больше о хорошем. Например, о том, как сумели насушить на зиму смородины, напасти бочонок грибов. И не менее важное – накосить на буренку сена и болотной осоки.
Рассказывала, какое участие приняли две их деревни в сборе средств на танковую колонну. («Мы решили с мамой отдать «пимокатные» деньги. Похожу ещё зиму в старых валенках: подошью»). И ни слова о том, что сами мерзнут в худенькой одежонке. И что зиму придется мыкать в лучшем случае на болтушке из овсяной муки, так как хлеба опять не будет, забирают в фонд обороны.
Не хватало комбайнеров. И её, поучив немного, посадили на «Коммунар». Но в первый же день, когда в паре с Шурой Березкиной (та была трактористкой) они прибыли в поле, то работы у них не получилось. Потому что комбайн сломался. И наутро за этот срыв к ним пожаловала милиция. Арестованных конвоировали в Вагай. Был суд. Шуру, правда, как невиновную, отпустили домой. А вот Нюре присудили принудительные работы. Шестимесячный срок отбывала она в Вагае, при милиции конюхом. И пока ещё жатва шла, отправляли на уборку овса, управляться на «лобогрейке». А на ночь закрывали в камеру.
Вернувшись после этой «отсидки» в родной колхоз, за штурвал уже не садилась, и её никто не неволил, поскольку и другой работы хватало. Зимой отправляли в деляну рубить дрова для скотных дворов. Весной на сеялку ставили. В сенокос, как всегда, - с литовкой или вилами у зарода. А по осени – на току.
Не изменился объем работы и с окончанием войны.
Война кончилась. А вернулись с этой страшной бойни немногие. На полянку придёшь, там почти одни девчата. Женихов – раз-два и обчелся. Сколько ревности, ссор, обид порождало всё это. Лучше всего ту атмосферу передают частушки.
На беседушке невесело:
Егорушка один.
Давайте, девушки, Егорушку
Под лавку закатим.
* * *
Гуси серы, гуси серы,
А гусиха белая.
Я любила, ты отбила –
Я бы так не сделала.
* * *
Мой милёночек уехал,
Только пыль на колесе.
Меня, горькую, оставил,
Как полынь, на полосе.
С горьким полынным привкусом было первое чувство Нюры, что не вылилось в семью.
Но бывает же так, счастье все же ее нашло, на тридцатом году. Так сказать, в «перестарках». Свой же парень, давно знакомый, с хуторских, посватался к ней. Плесовских Леонид Иванович. Однофамилец. Только что пришедший из армии. Вся округа дивилась: ведь такая разница в возрасте. А они с Леонидом, справив скромную вечеринку (слово «свадьба» тогда в обиходе даже не значилось), сразу зажили дружно, безо всяких ссор.
В 56-м появилась на свет дочка Шура. В 60-м сын, Костя.
К тому времени у них уже был свой угол. Старый дом, купленный по сходной цене на Хуторе, сумели они за лето перекатать и постепенно обустроить по-своему. Да могло ли и быть иначе, коль хозяин был плотником? А хозяйка под стать ему – все кипело у ней в руках. Ростиком невысокая, по-девчоночьи хрупкая, с легкой быстрой походкой, она славно не шла, а летела по улице.
Дети. Мирное небо. Дом. Много ль надо для счастья? В их семье оно было. И ведь это самое главное.
А когда состоялась жизнь, то не страшна и старость. И о муже, ушедшем три года назад, вспоминает Анна Петровна не с тоской, а со светлой грустью.
Остается добавить про мою героиню, что и государством она не пообижена. Есть медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Есть юбилейные награды. И почетных грамот - стопа. Но ещё бы нелишне дать за этот доблестный труд ветерану тыла квартиру, как дают их ныне ветеранам-фронтовикам.
Хотя в зятевом доме им со сватьей, Марией Нестеровной, и выделен уголок на двоих. И живут они мирно. Но вот свату пришлось поехать «гостевать» пока в город, где живет ещё один сын.
Обе бабушки ухожены. Но одна, пережив инсульт, еле ходит по дому. А другой ещё Бог даёт силы выйти на улицу, посидеть на уютной лавочке. А порой в огороде покопаться на грядках, вместе с дочерью Шурой.
И мне хочется пожелать нашей беспокойной Петровне сохранять свой бодрый настрой как можно дольше.
Раиса ПЛЕСОВСКИХ
Фото из семейного альбома