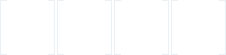На улице
Заречной
Я испытываю тихую радость, что имею возможность снова прийти сюда, на улицу Заречную. Совсем не узнаю эту милую улицу: так похорошели здешние дворы. В одном из них живут две дорогие для односельчан и всего района женщины: кавалер трёх орденов Трудовой Славы, почётный гражданин Юргинского района Мария Ивановна Мезенцева, а во второй половине большого дома – её мама, содатская вдова, Евдокия Дмитриевна Труфанова. Ей 96 лет. Живёт с внучкой. Торная тропинка рядом с палисадником – они видятся не по разу в день. Огромный двор убран до снежинки, в доме сделан качественный современный ремонт. Здесь не бывает по-иному.
Такая радость – черпать знания из вечно живых источников беспримерного трудолюбия, разума и оптимизма.
Среди семейных реликвий, – а их множество – награды, грамоты и дипломы, фотографии из старых газет, памятные подарки, полученные к юбилейным датам от администрации муниципального района, местной исполнительной власти, три дорогих ордена. Пора составлять картотеки и каталоги – так много документов, материалов, свидетельств славной биографии.
У Марии Ивановны юбилей – счастливый эпилог трудовой и личной биографии. В ней не только признание профессиональных заслуг и счастливая семейная жизнь – пятьдесят лет без малого они прожили с мужем Александром Кирилловичем, двух заботливых дочерей вырастили, воспитывают внуков – но и невозвратимые, невосполнимые утраты. Но если бы начать всё сначала – она осталась бы сама собой. Повторила свой трудовой путь.
Завтра была
война
Вновь беседую с Марией Ивановной, и мне открывается много нового, волнующего, драматического. Воспоминания детства, личные впечатления. Она родилась в самой красивой и дружной из всех деревень на свете – в Некрасовой. Как раз перед войной – в 1939 году. Золотое детство осталось в младенчестве. А в памяти – война, лишения, голод и холод. Отец Иван Васильевич Аксёнов известен ей только по рассказам мамы. Воевать ушёл в числе первых в деревне, а 1 декабря 1942 года семья уже получила похоронку. Вторую по счёту. Брат, Семён Дмитриевич Труфанов, умер от ран в апреле 1942 года, был похоронен под городом Крестцы Ленинградской области. Дни войны множили число дорогих потерь. В декабре 1943 года погиб второй брат – Пётр Дмитриевич, в Витебской области был похоронен. Младший лейтенант Ефим Дмитриевич, третий брат, пал смертью храбрых 5 сентября 1944 года. Погиб Тимофей Дмитриевич Труфанов. Неисчислимые потери для одной лишь семьи! Весёлая, шумная Некрасова обезлюдела.
Война не просто запомнилась – врезалась в память! Дети, Маша и брат Коля, который родился в сорок первом году, рано повзрослели. Евдокия Дмитриевна работала в колхозе возчиком, доставляла хлеб на станцию в Омутинку, ездила с грузами по всякой хозяйственной надобности. Трудилась в химлесхозе – стране была нужна живица. Неподъёмные вёдра с сырьём таскала с утра до ночи, давая две нормы. Просмолившаяся одежда стояла колом. Старалась, как и все, для фронта, для победы. За перевыполнение плана полагалось натуральное вознаграждение – ржаного хлеба краюшка. Она несла хлеб домой, детям. Евдокия Дмитриевна была кормилицей большой семьи, понимая отчётливее и безнадёжнее с каждой похоронкой, что надеяться ей не на кого. Дома двое стариков, сестра больная да двое малолетних ребятишек. Столько мужества, жизненной силы, двужильности было в ней! Горе не сломило. Вопреки бедственному положению она не попустилась коровой – тоже ради детишек. Картошка не родилась в войну: вымокала. Бабушка меняла у зажиточных односельчан на базаре в Омутинке и в Армизоне довоенную добротную одежду на картофель. Солдаткам в войну досталось труднее всего: и тяжко, и одиноко, и горько.
Корову спасали, как могли. Соломенные крыши на амбарах и стаях раскрыли подчистую – скормили бурёнке. На Кушме – по первому снежку – резали снопом и рвали осоку, камыши. По льду подтаскивать вороха к подводе ловко и нетяжело: Маша справлялась! Её даже нравилось. Другое дело – рожь жать серпами. Взрослые пошли, и она не отстаёт. На серп налегала изо всех сил – палец обрезала. Снопы складывали в кучу – штук по десять. Оставляли в поле до зимы. Как только уборка заканчивалась, свозили снопы в склады, чистили в поле место, пригоняли сложку. Колёсный трактор ХТЗ таскал этот нехитрый агрегат. Забрасывали снопы в барабан, молотили хлебушко.
– Голоднёшенек стоишь, но не надумайся хоть горсточку взять в рукавичку или в карман – мать строго наказывала. Иначе – в лагеря. Были такие женщины из некрасовских: голодных ртов полон дом, ребятишки мал мала меньше – нагребали хлебишка в обутки. До дома дойти не успевали – забирали, увозили в Салехард. В Некрасову они уже не вернулись.
Деревенская ребятня всё лето на лебеде, медунках, кисленке. Пойдут ягоды – из леса не вылезали. Лето – сказка, спасение для деревни. Запомнился хлеб войны. Евдокии Дмитриевне на трудодни дали одиннадцать килограммов зерна: сплошные отходы с колючками. Намололи их, перемешали с травой да с картошкой – на хлеб-то совсем непохоже. Уже после войны, когда Евдокия Дмитриевна в химлесхозе работала, хлеба настоящего попробовали. Выдавали по полбулочки. Ели его не вприкуску к похлёбке, а как конфету: маленький кусочек положат за щёчку и долго-долго держат во рту – жалко проглатывать.
– Этот вкус чёрного ржаного хлеба я хорошо запомнила. Он был плотный, тяжёлый – не пышный и ноздреватый, как сейчас, – говорит Мария Ивановна.
Зимой деревня замерзала, скукорживалась, умирала. Дрова рубить в лесу не давали – хоть ты умри. Только сушняк – старые, больные деревья. Его прижгли до последней палки. Вместе с матерью напилят две подводы, привезут домой. А дальше забота: как распилить и спрятать. В подполье сбрасывали, потом доставали и жгли в печах-железянках. Жаркого тепла хватало ненадолго. Жуткое время, горькое время – незабываемое.
В начале жизни школу помню я
Выжили некрасовцы! Выжила солдатская вдова Евдокия Труфанова, двоих деток подняла. Маша, та вообще к концу войны помощницей стала. В любой работе вместе с матерью. Не скоро пришёл достаток в дом. Картошки стали сажать больше, убирать не успевали осенью. Зато весной Маша с братом, ещё по апрельской грязи, накапывали мёрзлых клубней, мыли, чистили, а бабушка толкла и пекла их, присолит и в печь – слаще этих лепёшек не было!
Деревня делилась на два хозяйства: «Новый путь», что ближе к большаку, и «12 декабря» – у бора. В этом дальнем колхозе отец до войны был бригадиром. Красивый, статный – кровь с молоком.
Мария Ивановна школу военную и послевоенную вспоминает с особым теплом. На берегу реки, красивая – большой крестовой дом с высоким крыльцом. Школьная техничка Павлинья Афанасьевна давала звонки, мыла пол, топила печи, готовила еду, кормила детей – была для учеников военной поры второй матерью. Кто-то приносил картофелину, кто-то свекольной ботвы. И она из этого готовила похлёбку и делила на всех. Кто-то не мог принести ничего и отказывался обедать. Она брала за руку и вела к столу: «Покушай, хоть немножко, хоть здесь. Горячее – согреешься». Столько было души и милосердия в школьных работниках!
В Шипаковской школе Мария училась до седьмого класса, живя в интернате. Учёба шла хорошо. Почерк у Мани – так её звали в классе – был красивее, чем у учителя русского языка. Брату Коле учёба не давалась. У них было негласное соглашение, основанное скорее не на взаимной выгоде, а на безграничной любви друг к другу. Он, не доходя до дома, отдавал ей свою холщовую сумку и бежал на речку рыбу ловить. Любимая сестра Манюня должна была сделать за него все письменные уроки, а он – выкопать её пай картошки в огороде. Маша так его любила, что беспрекословно выполняла всё его домашнее задание и шла копать свою дневную норму картошки.
С Евдокией Дмитриевной ходила на ферму. С возчиков мать ушла после несчастного случая – кони подмяли её под себя, телега проехала прямо по женщине, изувечила. На свиноферму стали отправлять – не пошла. Не могла забыть самоуправства и несправедливости. Такой был случай. Свиней колхозных надо было кормить – бригадир распорядился, чтобы ехали и забирали прямо из накопанных куч в огородах. У Труфановых сгрузили всё подчистую. Евдокия Дмитриевна в сельсовет. А тогда в деревне председателю колхоза разве был указчик! Она напрямую через Колычеву пешком да бегом – в райвоенкомат. Картошку у кого, у вдовы забрали, обрекли на голод! Мужиков-кормильцев на войне положили!
Вернулась домой – районное начальство уже в колхозе. Приказали: верните. Семья защитников страны – муж и братья головы сложили – и так бедствует. Картошку обратно привезли и выгрузили. Евдокия Дмитриевна с ребятами стаскали всю её в подполье. А на свиноферму не пошла – пошла в доярки.
На ферме
Мария, отучившись в семилетке, совсем недолго поучилась в Юрге. Холода, дождь, слякоть. Обувку жаль по такой дороге рвать, а пешком шли туда и обратно всю дорогу. Бросила школу. Приходит заведующий фермой, из сосланных немцев. Их в сорок первом привезли раздетых-разутых, только медные тазы, нехитрая утварь, блестели как зеркало. Непривычно их было видеть на фоне здешних чёрных от сажи чугунков. Аккуратные были, серьёзные, семейные, авторитетные. Это не те немцы, что стране и народу беду принесли.
– Евдокия Дмитриевна, дорогая, вам же трудно, вдове с ребятами. А Мария для нас просто клад: пишет красиво, грамотно, – сказал заведующий матери.
– И вправду, – согласилась она. В её голосе были нотки гордости.
Мария быстро вошла в суть работы учётчика, которую пришлось вести. Высокая, статная, пышноволосая, по внешности и характеру – сама серьёзность. Так Мария Ивановна связала свою судьбу с фермой. Труд, дисциплина, безграничное уважение к людям труда, восхищение их непростыми судьбами – вот что пронесла она через всю колхозную биографию.
Среди бумаг семейного архива – вырезки из районных газет: Мария Ивановна Мезенцева – лучшая доярка Некрасовской фермы, победитель социалистического соревнования среди доярок колхоза. В учётчицах Мария была недолго. Взяла группу коров. Доили их тогда вручную, три раза в день. А между дойками сено косили, турнепс убирали. В бескормицу возили солому, рубили болотные кочки, которые секли, парили и давали коровам. Хоть и трудно было, поголовье старались сохранить.
После войны колхозная жизнь зримо пошла вперёд. Ощущался её стремительный шаг. Улучшалась материально-техническая база. Женщины в основном молодые на ферме. Работали – не ленились. Детей надо растить: одеть, отправить в школу. Доярки получали за свой труд достойную заработную плату. Рос престиж труда селянина. Работать в колхозном производстве стало почётно.
Соответствующим было и отношение к работе. Хоть труд в основном ручной, но порядок везде. Специалисты занимались племенной работой, добивались продуктивности молочного стада. Много было сделано в хозяйстве, когда председателем колхоза работал Николай Трофимович Желтов, особенно в животноводстве, при Иване Алексеевиче Беседине – в растениеводстве. Животноводство ведь напрямую зависит от результатов в полеводстве. Кормовая база достаточная – надои растут.
– Дённо и нощно на ферме пропадала. Столько сил вкладывала! В отпуск даже не ходила. На выходной иду и то переживаю: пятьдесят коров и пятьдесят телят как оставлю? Хоть и доили уже аппаратами, и кормили из раздатчиков, но душа-то болит: они же ждут меня! Зайдёшь на ферму, голос подают – узнали. Умницы – на ласку и заботу отзываются! Я их тёплой водичкой всех напою, хвостики подстригу аккуратненько – они потом высохнут, пушистыми станут. К коровке чистой и подойти приятно. И молочко идёт первосортное.
На ферму зайдёшь или полем идёшь, когда хлеб убирают, комбайны шумят, машины вереницей на ток с полей идут – такое состояние, что не описать. Душа поёт!
Жизнь моя –
район Юргинский
Если говорить об особо памятных моментах трудовой биографии полного кавалера орденов Трудовой Славы, их много. И первая зарплата, двенадцать рублей, на которую купила ткань на шторы и отрез на юбку. И валенки. И медаль «За трудовую доблесть». И первый орден Трудовой Славы. Столько радости и гордости было! И благодарности, что заметили, оценили её скромный труд простой доярки. Тогда Мария Ивановна определила для себя: все три ордена Славы получить за свой труд. Памятен и третий орден Славы: она добилась высокой цели ответственным трудом. Эта оценка была не только её, но и всех тех, кто работал рядом – скотников, кормачей, специалистов, руководителей. Всех, кто поддерживал и вдохновлял. Тогда было решено, что Мария Ивановна возьмёт группу коров с Зоновского комплекса направленного выращивания нетелей. И тут специалисты запротестовали: не надо с Зоновского. Мария Ивановна, член бюро райкома партии на тот момент, поставила вопрос перед руководством района. Владимир Никифорович Тулупов, секретарь районного комитета КПСС, поддержал. Тут же поехали вместе с заведующей фермой в Зоново, сами отобрали нетелей. Тогда в адрес чапаевцев нередко звучала критика, что не получают с их комплекса продуктивных животных. Мария Ивановна наглядно доказала обратное: 3200 килограммов молока получили от каждой коровы этой группы.
Хорошей школой считает Мария Ивановна партийную, советскую работу. Она была членом райкома КПСС неоднократно, членом бюро райкома, на протяжении трёх созывов – депутатом районного Совета. Научилась жить не только своими заботами – всей фермы, колхоза, отрасли.
Считает, что нет людей красивее и чище душой, чем люди села. Называет в их числе Нину Кирилловну Трофимову, Екатерину Фёдоровну Дерябину, Ирину Викторовну Палецких – замечательных тружениц, своих коллег.
Мария Ивановна отметила в феврале юбилей. Подводя итог прожитому, она говорит, что довольна судьбой: семьёй, работой, производственной и общественной, профессиональным признанием. Она никогда не была в стороне от людских и профессиональных проблем. Односельчане считались с ней, советовались.
Счастлива, что родилась и живёт в Юргинском районе, который всегда занимал высокие места в трудовом соперничестве аграриев области. Роднее его и красивее нет. Сейчас Юргинское особенно похорошело. У Марии Ивановны Мезенцевой двое дочерей, обе выбрали делом жизни здравоохранение. Пятеро внуков, замечательных, умных, которые с любовью, пониманием и заботой относятся к ней, пятеро правнуков. Оставаться ей и ещё на многие годы такой же счастливой и благополучной, не знающей усталости и невзгод.